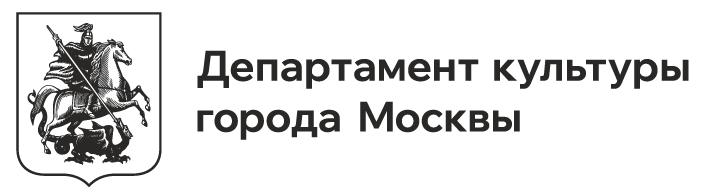29 октября 2024 года — 95 лет со дня первого заседания «Франко-русской студии» (29.10.1929–28.04.1931, Париж, Франция), совместных собраний представителей двух великих культур: французской и русской. Идея их проведения принадлежала двум русским эмигрантам — поэту, журналисту Всеволоду Борисовичу Фохту и писательнице Надежде Даниловне Городецкой. В.Б.Фохт, в прошлом штаб-ротмистр Митавского полка Русской императорской армии, участник Первой мировой войны на французском фронте, остался во Франции после победы над Германией, работал корреспондентом газеты «L’Intransigeant», был знаком со многими французскими писателями. Однако с русскими эмигрантами, прибывавшими после трагических событий в России начиная с 1917 года, связей не терял, участвовал в собраниях Союза молодых поэтов и писателей и литературного объединения «Кочевье» (1928–1930), был соредактором журнала «Новый дом» (1926–1927), выступал с докладами в Студенческом клубе Русского студенческого христианского движения (1929–1931).
Н.Д.Городецкая была как раз из тех русских, которые появились в Европе из-за Октября 1917 года. Пройдя эмигрантский путь из Константинополя, через Королевство СХС, во Францию и там осев, занималась литературным творчеством и журналистикой, издала в Париже романы «Несквозная нить» (1924), «Мара» (1931), участвовала в собраниях литературного объединения «Кочевье», Религиозно-философской академии, Очага друзей русской культуры, Тургеневского артистического общества, в семинаре Н.А.Бердяева (1930–1932).
Идею Фохта поддержал его французский друг, романист и критик Робер Себастьен. Так родился проект, получивший название «Франко-русская студия», а Вс.Фохт и Р.Себастьен стали ее ведущими.
На призывы Всеволода Фохта, Надежды Городецкой и Робера Себастьена откликнулись и французы, и русские: решено было проводить заседания «Франко-русской студии» с октября 1929 года ежемесячно. Финансовое обеспечение этих встреч взяло на себя Французское общество современных гуманитарных знаний, а стенограммы собраний согласился публиковать малотиражный парижский журнал «Cahiers de la Quinzaine», издаваемый в то время Марселем Пеги, сыном его основателя Шарля Пеги, поэта, драматурга и религиозного мыслителя, погибшего на войне. Участвовала в организации собраний и редакция ежеквартального журнала «France et Monde», которая, по инициативе Фохта, в 1928 году публиковала произведения русских писателей-эмигрантов — М.Цветаевой, Н.Тэффи, Б.Зайцева, Г.Кузнецовой и других, стремясь познакомить с ними французского читателя. Предполагалось даже издание антологии. Но не сложилось.
Собрания Студии проходили поначалу в тесном помещении книжной лавки издательства «Современные гуманитарные знания», затем перешли в большой Зал научных обществ и были открыты для всех желающих, а их было немало. Зал, рассчитанный на 300 человек, не мог вместить всех пришедших, и люди толпились даже на улице.
Темы для каждого собрания предлагались за месяц до очередного заседания, они назывались ведущими, но чаще их выбирали присутствующие в зале.
Собрание, как правило, состояло из двух частей: в первой его части два докладчика — русский и француз — представляли (по-французски) свое видение предложенной темы, а во второй — оба доклада активно обсуждались всеми желающими, присутствующими в зале.
Всего состоялось 14 собраний. Три из них были посвящены философской проблематике, на остальных обсуждались темы, связанные с художественной литературой. Русские докладчики для анализа особенно часто привлекали тексты того или иного отечественного писателя, чтобы анализировались по аналогии и тексты писателя французского, активно используя сравнительно-типологический метод.
Первое заседание Студии состоялось 29 октября 1929 года. Его открыл Всеволод Фохт вступительной речью: «“Франко-русская студия” родилась благодаря сложившейся уникальной исторической ситуации. Франция, и в частности Париж, в течение последних нескольких лет стала домом для большинства известных своими литературными произведениями людей, крупных писателей и молодых литераторов из русской диаспоры» (пер. В.Зубовой, французский оригинал см.: [2]). А второй ведущий Студии, Робер Себастьен, выступил с докладом, назывался он «Беспокойство в литературе» («L’Inquiétude dans la littérature»). В дебатах на эту тему принимали участие поэт и романист Альфред Бланше, философ и эссеист Жан Максанс, журналист и писатель Марсель Соваж, писатель Робер Валери-Радо, Гайто Газданов, Надежда Городецкая, Марк Слоним и сам докладчик.
Второе заседание проходило 26 ноября 1929 года, на нем были представлены два доклада: литератора и журналиста Юлии Леонидовны Сазоновой-Слонимской под названием «Влияние французских писателей на творчество русских писателей начиная с 1900 года» (L’Influence de la littérature française sur les écrivains russes depuis 1900) и Жана Максанса «Влияние русской литературы на французских писателей» (L’Influence de la littérature russe sur les écrivains français). В своем докладе Юлия Сазонова утверждала, что русский роман сосуществует с французским романом, не смешиваясь с ним. По ее мнению, русские писатели, безусловно, читали французских авторов, но «шли своей дорогой», впитывая в себя язык, традиции и культуру русского народа. Этой же точки зрения придерживались и остальные выступавшие в дебатах русские, в частности, Марина Цветаева и Борис Зайцев.
Третье заседание состоялось 18 декабря 1929 года. Докладчиком с русской стороны был будущий архимандрит РПЦЗ Кирилл Иосифович Зайцев, в ту пору редактор парижской газеты «Россия и славянство». Доклад его назывался «Проблема Достоевского» («Le Problème de Dostoïevski»). Подводя итоги своего выступления, К.Зайцев высказал мысль о том, что никто не сравнится с Достоевским по силе воздействия на человеческую душу. Достоевского надо не читать, а проживать. В докладе его французского визави, романиста и критика Рене Лалу «Достоевский и Запад» («Dostoïevski et l’Occident»), прозвучала несколько скептическая оценка наследия великого писателя, поэтому в дебатах Лалу не был поддержан ни русской, ни французской аудиторией. На этом собрании выступали в прениях писатель Жак Мадоль, автор романа «Альбигойская драма и судьба Франции» (переведен на русский язык), Жан Максанс, эссеист, критик и издатель Станислав Фюме, Борис Поплавский, Гайто Газданов и другие.
Четвертое заседание состоялось 28 января 1930 года и было посвящено Л.Н.Толстому. С русской стороны с докладом «Личная драма Льва Толстого» («Le Drame intime de Léon Tolstoï») выступил лингвист, историк и литературный критик Николай Карлович Кульман, с французской — Станислав Фюме, его доклад назывался «Духовная роль Толстого» («Le Rôle spirituel de Tolstoï»). В дебатах приняли участие отец Лев Жилле, Рене Лалу, романист, автор книги «Католицизм и коммунизм» Робер Оннер, Марк Слоним, Николай Бердяев, графиня Татьяна Толстая и другие. Здесь не обошлось без споров. Николай Бердяев отметил, что Толстой «становится рационалистом. Он критикует догмы и таинства Церкви с точки зрения причины». Литературный критик Марк Слоним, напротив, хвалил Толстого за то, что он еретик, потому что, по мнению Слонима, «нельзя ограничивать художника догмами». Точку в спорах поставил православный священник Лев Жилле, отметив, что «отлучая Толстого, Церковь только подтвердила то, что Толстой сделал сам» [Цит. по: 1].
Пятое заседание, посвященное Марселю Прусту, состоялось 25 февраля 1930 года. С французской стороны выступал католический писатель Робер Оннер, его доклад назывался «Гуманистическая ценность Марселя Пруста» («L’Apport humain de Marcel Proust»). С русской стороны доклад «Пруст и объективная трагедия» («Proust et la tragédie objective») представлял Борис Вышеславцев. В прениях участвовали писатель Бенжамен Кремье, Рене Лалу, Жан Максанс, Марсель Пеги, Надежда Городецкая, Юлия Сазонова, Марина Цветаева. На выступление Бенжамена Кремье, довольно пространное, резко отреагировал Марсель Пеги. Началась словесная дуэль, страсти накалялись, галльский темперамент проявляли обе стороны конфликта, но до рукопашного боя дело не дошло, вмешались ведущие. Наверное, предчувствие нечто подобного не обмануло Ивана Алексеевича Бунина, раз он в самом начале обсуждения отказался от предложения выступить. На заседании присутствовали также поэт и критик Мари-Тереза Гадала, видный деятель русского католичества Елена Извольская, Надежда Тэффи, графиня Татьяна Толстая, Станислав Фюме, Николай Кульман, Николай Оцуп, поэт Дени Рош, романист и критик Раймон Шваб, Борис Зайцев, Михаил Цейтлин и другие.
Шестое заседание Студии было посвящено Андре Жиду. С докладами выступили Луи Мартен-Шофье и Георгий Адамович. У первого доклад назывался «Андре Жид и искренность» («André Gide et la sincérité»), у второго — просто «Андре Жид». Обсуждение докладов прошло без эксцессов, но в спорах. Так, писатель Андре Мальро (будущий министр культуры Франции), известный своей левизной, положительной чертой творчества Жида назвал его гуманизацию. Ему возразил философ и литературный критик Жан Максанс (католик и последователь неотомизма), отметив, что в своих книгах Жид отказывается от Бога. В ответ Мальро уточнил, что суть писателей-гуманистов и состоит в том, что они принимают человека, но не принимают Бога. В прениях также участвовали Рене Лалу, писатель и издатель Леон Пьер-Квинт, Георгий Адамович и другие.
Седьмое заседание Студии состоялось 29 апреля 1930 года и собрало большую аудиторию с обеих сторон, так как темой его был роман как жанр литературы и его развитие после 1918 года. «Роман после 1918» («Roman depuis 1918») — так назывался доклад Бенжамена Кремье. Вторым выступал Всеволод Фохт. Своим докладом, который назывался «Некоторые аспекты русского романа после 1918» («Quelques aspects du roman russe depuis 1918»), он познакомил присутствующих французов с русской эмигрантской литературой и обратил внимание на тот факт, что положение эмигрантской литературы совершенно особое, так как живет она как бы в пустыне, «неся факел свободы, потушенный на родине». Фохт считал, что за границей эмигранты исполняли особую миссию, показывая всему миру на примере России, к чему приводит преклонение перед материализмом. И присутствовавшие в зале с ним согласились. Ведь большая их часть была христианами. Да и сам Всеволод Фохт был глубоко верующим, православным. Накануне Второй мировой войны он переедет в Палестину, где примет монашество. Совершенно неожиданным для присутствующих оказалось заявление Георгия Адамовича о том, что эти собрания не принесут никакой пользы, так как русские и французы никогда не поймут друг друга. В дебатах участвовали Г.Адамович, Б.Кремье, отец Лев Жилле, Рене Лалу, Жан Максанс, Борис Зайцев, Илья Зданевич и другие.
Восьмое заседание состоялось 27 мая 1930 года. Выступали два докладчика, Николай Бердяев и Жан Максанс. Оба доклада назывались одинаково — «Восток и Запад» («L’Orient et l’Occident»). В результате их обсуждения призыв Бердяева к единению Востока и Запада получил поддержку всех выступавших во время дебатов, но, как считали участники собрания, это единение не должно происходить за счет «растворения» Востока в Западе или Запада в Востоке. В дебатах участвовали Станислав Фюме, отец Лев Жилле, Марсель Пеги, Робер Себастьен, Вс.Фохт, Борис Вышеславцев, философ Оливье Лакомб и сам Бердяев.
Девятое заседание состоялось 4 ноября 1930 года и было посвящено советской литературе. Французскую сторону представлял писатель Андре Бекле, выступивший с докладом «Советская литература и советская действительность» («Littérature et actualité soviétiques»), русскую — Юлия Сазонова-Слонимская, доклад ее назывался «Основные жизненные проблемы в советской литературе» («Les grands problèmes de la vie dans la littérature soviétique»). В дебатах участвовали поэт, писатель, соратник Марселя Пеги Поль Базан, Мария-Тереза Гадала, Рене Лалу, Жан Максанс, Марсель Пеги и другие.
Десятое заседание состоялось 25 ноября 1930 года и было посвящено Полю Валери. С докладом «Поль Валери. Поэзия и интеллект» («Paul Valéry. La Poésie et l’intelligence») выступил Рене Лалу. У Владимира Вейдле доклад назывался «Поль Валери и чистая поэзия» («Paul Valéry et la poésie pure»). В обсуждении докладов принимали участие Жан Максанс, Рене Лалу, Робер Себасьен, Всеволод Фохт и сам Поль Валери, присутствовавший на собрании.
Одиннадцатое заседание состоялось 16 декабря 1930 года. На нем Андре Фонтена рассказывал о символизме во Франции («Le Symbolisme en France»), а Нина Берберова — о русском символизме («Le Symbolisme russe»). В дебатах участвовали литературовед и писатель Жон Шарпантье, отец Лев Жилле, Станислав Фюме, Рене Лалу, Жан Максанс, Владимир Вейдле, Всеволод Фохт и другие.
Двенадцатое заседание проходило 27 января 1931 года и было посвящено Декарту. С докладами выступили Жак Маритен «Декарт и дух картезианства» («Descartes et l’esprit cartésien»). (Кстати, Маритен был женат на русской. Его жена, Раиса Уманская, тоже философ, правда, еще писала стихи.) У Бориса Вышеславцева доклад назывался «Декарт и современная философия» («Descartes et la philosophie moderne»). В прениях выступили Николай Бердяев, Жак Маритен, литератор и публицист Леонид Габрилович, Оливье Лакомб и другие.
Тринадцатое собрание состоялось 24 февраля 1931 года и было посвящено Шарлю Пеги, известному поэту, драматургу, публицисту, эссеисту и религиозному мыслителю, основателю журнала «Cahiers de la Quinzaine». Кстати, в издательстве «Русский путь» в 2006 году вышла книга «Шарль Пеги. Избранное. Проза. Мистерии. Поэзия». На этом собрании заслушали три доклада: Жана Максанса «Пеги и событие» («Péguy et l’événement»), Надежды Городецкой «Шарль Пеги и его творчество» («Charles Péguy et son oeuvre») и Анри Геона «Заметки о Пеги» («Notes sur Péguy»). В обсуждении докладов участвовали Станислав Фюме, Анри Массис, Франсуа Мориак, критик и издатель Даниэль Алеви, Жан Максанс, Константин Мочульский, философ-персоналист Эмманюэль Мунье, Марсель Пеги, философ и писатель Дезире Рустан и другие.
Четырнадцатое заседание, состоявшееся 28 апреля 1931 года, завершало работу «Франко-русской студии». С итоговым докладом выступил Всеволод Фохт, назывался он «Предисловие» («Avant-Propos»), потому что предшествовал двум другим докладам, посвященным духовному обновлению Франции («Le Renouveau spirituel en France» Станислава Фюме) и России («Le Renouveau spirituel en Russie» Георгиz Федотова).
Леонид Ливак в своей книге «Франко-русская студия» отмечал, что именно католики и их русские союзники «выиграли сражение за Студию», не без содействия ее ведущих, Фохта и Себастьена. Последние были тесно связаны с кругами интеллектуалов, которые видели разрешение европейского духовного кризиса в религиозном возрождении.
Борис Зайцев в своем «Дневнике писателя» (Москва: Дом русского зарубежья им. А.Солженицына; Русский путь, 2009) оставил воспоминания «Русские и французы» о собраниях Франко-русской студии, на которых всегда присутствовал: «Общее впечатление, что русское влияние (вершин наших) и во Франции сейчас немалое.
Пожалуй, оно французов отчасти стесняет. Им больше хочется себя, своего, они несколько подавлены модой на русское, им бы хотелось, чтобы французская струя сильней означалась в Европе — ведь литература их действительно первоклассна (но моды на Францию в Европе нет: слишком давняя марка).
Русские же держатся очень смело. Иногда казалось, что французы почти завидуют этой скифской “молодости” и самоуверенности (последнего у нас не занимать стать).
Хорошо, что мы верим в Россию и любим ее. Но увлекаться не приходится. Чужого забывать нельзя. Учиться у французов, как писать — не вредно, и это наши отцы делали. Когда один из участников русских указал, что и Тургенев, даже Толстой, даже Достоевский кое-что от Запада (Франции) позаимствовали, французы были отчасти удивлены и приняли это с известным облегчением.
Кстати: для русских собрания показали и то, что энтузиастов, горячих и страстных людей не так мало и среди французов — особенно молодежи. Споры и прения шли мирно, но были моменты, когда французы так нервно, почти неврастенично и исступленно между собой схватывались, что уж действительно становилось похоже на Россию».
Источники:
1. Любомудров А. Вера и творчество в русско-французском диалоге 1929–1931 годов // Альфа и Омега: Альманах (Москва). 2010. № 58.
2. Le Studio Franco-Russe, 1929–1931 / Textes réunis et présentés par Leonid Livak; sous la rédaction de Gervaise Tassis. Toronto: Toronto Slavic Library, 2005. 624 p.
В.Р.Зубова