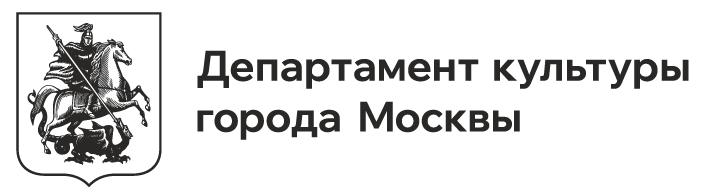29 декабря 2024 года — 130 лет со дня рождения Михаила Федоровича Андреенко (Андреенко-Нечитайло; 29(17).12.1894, Одесса (по другим сведениям: Херсон), Российская империя — 12.11.1982, Париж, Франция), живописца, сценографа, писателя. Из семьи губернского секретаря, дворянина Ф.С.Нечитайло-Андреенко. Вскоре после рождения сына семья переехала в Херсон. Рос мальчик в творческой атмосфере, ведь двоюродный брат матери, потомок английских коммерсантов, скульптор Борис Эдуардс, был в те годы директором Одесского художественного института и одним из основателей «Южнороссийского товарищества художников». В Херсоне тогда вовсю процветала творческая жизнь. Именно там начинал свою театральную карьеру Вс. Мейерхольд, именно там братья Бурлюки зачинали футуризм, именно там еще в детстве Миша Андреенко влюбился в живопись, да так, что не оставил ее до конца жизни. С гимназических лет он участвовал в выставках Херсонского общества изящных искусств (1910–1912), представляя на них пейзажи родного края.
По окончании гимназии в 1912 году Михаил Андреенко отправился в столицу России, где поступил на юридический факультет Петербургского университета, и одновременно в Рисовальную школу Общества поощрения художеств. Правда, потом Михаил Федорович признавался, что выбор юрфака был случайным, ведь право никогда раньше его не интересовало, да и после тоже. А вот Кандинским он был увлечен довольно сильно и, что вполне вероятно, захотел пойти по его стопам, ведь первое образование у Кандинского было юридическое. В Рисовальной школе Андреенко учился у А.А.Рылова, Н.К.Рериха и И.Я.Билибина.
В 1914 году с группой соучеников школы он принимал участие в Международной выставке книги и графики в Лейпциге, а в начале Первой мировой войны — в выставке в пользу Лазарета деятелей искусств в Петрограде. В 1915–1916 годах показал новое свое увлечение — первые кубистические полотна на выставках в Художественном бюро Н.Е.Добычиной, в котором в то время предлагали на продажу свои картины Малевич, Филонов, Бурлюки. Параллельно с модернистскими полотнами Андреенко ради заработка иллюстрировал журналы и газеты, в частности журнал «Голос жизни» Д.Философова. Выполнял он и заказные экслибрисы. Тогда же Михаил Федорович работал и декоратором в театре Литературно-художественного общества.
В 1917 году Андреенко окончил университет. В начале 1918 года, перебравшись на юг из-за революционных событий в России, он нашел работу в Одессе в Камерном театре К.Миклашевского, где оформил декорации для «Электры» Гофмансталя, «Близнецов» Плавта, «Действа о Теофиле» Рютбефа в переводе А.Блока и «Четырех сердцеедов» самого Миклашевского.
В январе 1920 года Андреенко покидает Одессу и тайно переправляется по льду Днестра в Румынию. Несколько месяцев он находится в Бухаресте, где работает сценографом и мастером по костюмам для балета Р.Дриго «Миллионы Арлекина», поставленного Борисом Романовым в Румынской королевской опере. Потом была Прага, в которой он прожил более двух лет (1921–1923). Здесь он служил главным декоратором Русского камерного театра, оформил почти десяток спектаклей: «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого, «Смерть Павла I» Д.С.Мережковского, «Любовь — книга золотая» А.Н.Толстого, «Гроза» и «Волки и овцы» А.Н.Островского, «Дворянское гнездо» по И.С.Тургеневу, «Преступление и наказание» по Ф.М.Достоевскому и другие. Андреенко также приглашал и чешский «Национальный театр» («Недоросль» Фонвизина), и «Немецкая опера», для которой он создал великолепные композиции в скульптурном стиле индусских храмов для премьеры оперы П.Хиндемита «Нуш-Нуши».
В своих театральных работах художник делит сценическое пространство прожекторами, подвешенными в форме арок, достигая эффекта разных планов, что позволяет с помощью одной декорации воспроизводить в живописном обрамлении уголок города, порт, улицу, сады.
С 1923 года Михаил Федорович в Париже и возвращается к живописи, хотя был востребован как сценограф, например, Ф.Ф.Комиссаржевским в его частном маленьком театре «Радуга», театром «Одеон» («Преступление и наказание», 1924), театром «Пигаль» и С.П.Дягилевым, для которого выполнил декорации к балету «Жар-птица» И.Ф.Стравинского по эскизам Н.С.Гончаровой.
В 1925 году он участвовал в выставке русских художников в кафе «La Rotonde» и в оформлении зала Русского литературно-артистического кружка.
Андреенко уже был знаковой фигурой и для русского кинематографа, и не только. Поэтому А.Волков пригласил художника создать декорации и костюмы для фильмов «Казанова» (1926) и «Шехерезада» (1928), а французский режиссер М.Л’Эрбье — для фильма «Деньги» (1927).
Тогда же он участвовал в Международной театральной выставке в Нью-Йорке (1926) и групповой выставке в галерее V.Girchman (апрель 1931).
В 1930-е годы Андреенко вдруг как-то неожиданно уходит от кубо-конструктивной манеры письма и рисует картины уже сюрреалистического плана, на которых изображаются музыкальные инструменты, раковины, обломки камней, пеньки, ветви необычных форм вперемежку с архитектурными элементами (барельефы, обрубки колонн, фризы).
А в 1940–1950 годах на смену сюрреалистическим натюрмортам приходят уличные сценки, базары, кафе и рестораны — такая обыденная, привычная жизнь простых людей. Многие пейзажи, на которых изображены старые дома парижского квартала Вожирар, где он тогда жил, сохраняют до сих пор обаяние уже не существующего архитектурного ансамбля старого Парижа. Кроме художественной ценности, цикл «Париж, который исчез», имеет и ценность историческую — как незаменимый документ прошлого французской столицы. В эти годы Андреенко участвовал в салонах «Осеннем», «Независимых» и «Сверхнезависимых», в парижских выставках русских художников и скульпторов, организованных Комитетом «Франция — СССР» (1945), Союзом советских патриотов (1945–1947), Медонском салоне (1948).
С 1958 года художник возвращается к абстрактным живописным конструкциям, с которых он начинал свой путь в искусство в 1915–1917 годах. Он отталкивается от мысли о том, что эпоха, насыщенная невероятным количеством фотографий, изменяет художественное видение мира. Газеты, журналы, афиши, световые рекламы, телевидение, кино дают наглядную картину мира, не способную взбудоражить воображение и вызвать вдохновение. А настоящий художник, по его мнению, должен подсознательно направлять свои поиски к созданию миров или видений, которых нет в реальной действительности. Как считал Андреенко, в XX веке на замену реализму приходит искусство условных знаков и создается мнимая, несуществующая действительность. Картины Андреенко тех лет — это изобретение новой реальности, составленной из частей существующей.
На персональной выставке Андреенко в Риме в галерее «Иль Билико» в 1965 году почти все представленные картины принадлежали к периоду 1959–1964 годов. Абстрактные формы у него оживали благодаря удачно выстроенной композиции, игре цветов и оттенков, использованию разнородных материалов (песка, гравия, проволоки, картона, чистого полотна и т.п.). Он продолжает писать пейзажи, теперь это были Испания, Венеция, Гент, Брюгге.
Будучи трудоголиком, Андреенко неутомимо создает все новые и новые живописные вариации. Громкий успех его экспозиции в 1976 году в Амстердаме говорит о том, что художник еще не исчерпал себя. Надо признать, что его конструктивистские полотна действительно живописны. Андреенко остается верным тому художественному методу, для которого задача живописи заключается не в повторении увиденной природы, а в новой ее интерпретации. По его мнению, «манера абстрактно думать никогда не была чужда искусству». Он считал, что музыка, живопись и архитектура обладают абстрактной сущностью. Абстрактные формы появляются у всех народов в декоративном искусстве, скульптуре и живописи.
Князь Н.Д.Лобанов-Ростовский вспоминал о своей встрече с художником: «Впервые я встретился с Андреенко в его парижской мастерской в 1964 году. Ему было тогда 70 лет. Он уже плохо видел и жил в нищете, в огромной грязной студии, почти всеми забытый. Спроса на его работы тогда не было. Я купил у него десять эскизов костюмов и несколько эскизов декораций. Он был в здравом уме, шутил и трезво судил о своих коллегах, русских художниках в Париже… Андреенко был снова “открыт” дельцом-печатником Кристофером Цвикликером в 1973 году, когда русское модернистское искусство опять стало всплывать» (Лобанов-Ростовский Н.Д. О театральных художниках из России: (Записки коллекционера) // Евреи в культуре Русского Зарубежья. 1919–1939. Иерусалим, 1992. Т. 1. С. 394–395).
С 1960 годов Андреенко принимал участие в различных групповых выставках, в частности, «Первое поколение абстрактного искусства» в Сент-Этьенне (1958), «Русские художники парижской школы» в Париже (1961), «Авангард 1910–1930» в Берлине (1967), «The Non-Objective World» в Лондоне, Париже и Милане (1971), «Русский взгляд» в Гейдельберге (1974), «Снова русские» в Париже (1975), «Сценография и русский авангард» в Вашингтоне (1976–1978) и др. А свои персональные выставки он провел в Париже в галереях F.Houston-Brawn (1964), J.Shalom (1972) и «22» (1974), а также во Флоренции (1964), Риме (1965), Западном Берлине (совместно с А.А.Экстер, 1974), Женеве (1974) и Амстердаме (1976).
Помимо живописи, Андреенко занимался литературным творчеством, как и его многолетний друг, художник Сергей Шаршун. Михаил Федорович писал критические статьи и очерки по искусству, прозу, в частности, рассказы. Публиковался в русских эмигрантских журналах («Возрождение», «Новый журнал», и др.), издал на свои средства сборник рассказов «Перекресток».
Творческая жизнь художника оборвалась в 1978 году из-за полной потери зрения. Картины Андреенко представлены в Музее современного искусства города Парижа, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Национальной библиотеке в Вене и т. д.
Михаил Федорович ушел из жизни 12 ноября 1982 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Современники Андреенко отмечали, что он был интересным собеседником, блестящим рассказчиком, умеющим подмечать мельчайшие детали во всем, особенно в чертах характера, которые не сразу бросались в глаза. По жизни он любил цитировать Н.В.Гоголя или А.С.Грибоедова и считал, что, если внутренний мир художника пуст, таким будет и его произведение.
Источник:
В.Р.Зубова