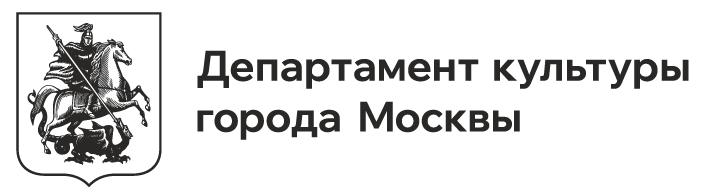Будет ли наш прах покоиться в родной земле
или на чужбине — я не знаю, но пусть помнят
наши дети, что где бы ни были наши могилы, это
будут русские могилы и они будут призывать их
к любви и верности России.
С.Е.Трубецкой
26 февраля 2025 года — 135 лет со дня рождения князя Сергея Евгеньевича Трубецкого (26(14).02.1890, Москва, Российская империя — 24.10.1949, Кламар близ Парижа, Франция), общественно-политического деятеля, ученого, публициста. Из семьи князя Евгения Николаевича Трубецкого, религиозного философа, правоведа, и княгини Веры Александровны (урожденной Щербатовой). Трубецкие ведут свой род от внука Гедемина Дмитрия Ольгердовича, князя брянского, стародубского и трубчевского, участника Куликовской битвы, погибшего в сражении на Ворскле (1399) вместе с сыном Иваном. Фамилии на -ский (-ской) начали появляться у русских князей с середины XVI века. Фамилия князя восходит к названию города Трубчевска (Трубецка).
«Я родился 14 февраля 1890 г. (по старому стилю) в Москве, в доме моего деда с материнской стороны, кн. А.А.Щербатова, на Большой Никитской, № 54», — напишет Сергей Евгеньевич в своих воспоминаниях «Минувшее» (Здесь и далее: [1]). Вскоре после его рождения семья переехала в Киев. «Самые первые уроки Мама давала нам сама. Я начал обучаться грамоте четырех лет. Позднее Мама передавала наше обучение учителям, которых она же выбирала и приглашала. <…> Учили нас учителя, но воспитывала нас Мама и этой своей основной материнской обязанности она никому не передавала: гувернеры и гувернантки были ее помощниками, но она им никогда не поручала дела нашего воспитания и всегда сама во все входила». Проживали Трубецкие в Киеве, а лето проводили в подмосковной усадьбе князя Щербатова «Наре», которую все семейство любило.
«Мой отец говаривал, что наше детство и детство его поколения не так уж различны между собой. Совсем другое дело, говорил он, детство его родителей (моих дедов) и детство его собственного поколения: между ними легла резкая черта — уничтожение крепостного права.
Между моим поколением и поколением моих детей прошла другая, несравненно более глубокая черта — большевицкая революция.
Уничтожение крепостного права, разумеется, очень глубоко отразилось на той аристократической и помещичьей среде, к которой принадлежали все наши деды и прадеды, как с отцовской, так и с материнской стороны. Однако ломка жизненных условий была тогда относительной: тут была эволюция, а не революция. Старое отживало и постепенно уходило, а не рухнуло так, как это случилось на нашей памяти».
В начале 1900-х годов всем семейством Трубецкие отправились путешествовать по Европе, посетили Австрию, Италию, Францию, Германию. Осенью 1905 года Сергей поступил в шестой класс Киевской гимназии. «Наш киевский класс был ненормально велик — 54 человека. Среди них огромное большинство интересовавшихся политикой — были либо эсерами, либо эсдеками». Потом в эмиграции князь напишет: «Это было время, когда эсеры, руководившие аграрными беспорядками (эсдеки специализировались на фабриках и заводах), пустили крылатое слово: “Разоряйте гнезда, воронье разлетится!”
“Воронье” — это были мы, помещики!
Много было тогда разрушено наших родных гнезд, много пропало бесценных культурных сокровищ. Морально удары эти переживались еще куда тяжелее, чем материально. Болезненно разрывались нити, веками связывавшие нас с крестьянами...
В это время с трибуны Государственной Думы кадет Герценштейн (не стоит говорить о “крайних левых”) с непристойным юмором говорил об “иллюминациях дворянских усадеб”!».
В 1906 году, когда Трубецкие переехали в Москву, Сергей перевелся в 7-ю гимназию, которую окончил в 1908 году с золотой медалью и поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. «Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Между гимназистом и студентом грань очень резкая! Гимназист — “мальчик”, в лучшем случае — “юноша”, студент же — “молодой человек”!
<…>
Надо сказать, что посещал я лекции редко. Думаю, что за все четыре года моего университетского курса я был не больше чем на двадцати лекциях, причем главным образом на лекциях В.О.Ключевского (русская история)…» Однако молодой Трубецкой с увлечением работал в семинаре философов и психологов Г.И.Челпанова и Л.М.Лопатина, чьи уговоры остаться при университете для подготовки к профессорскому званию отклонил, не испытывая подлинного научного энтузиазма. По признанию князя, «в университетские годы я много занимался наукой, но это не мешало мне также — в первые два с половиной года (1908–1910), когда я зимой жил в Москве, — жить и светской жизнью.
<…>
В мое время старая светская Москва уже сильно клонилась к упадку. Та светская жизнь, которая когда-то била в ней ключом, почти совсем замерла или переходила в купеческие салоны. Настоящий “Большой Свет” постепенно делался в России монополией Петербурга; московские семьи начали вывозить там своих дочерей. Но и светский Петербург, ввиду крайней Несветскости Двора при последнем царствовании, тоже переживал заметный упадок».
Зимой 1910 года Трубецкие посетили Рим, даже провели в этом городе несколько месяцев. В 1913 году Сергей Евгеньевич снова съездит за границу, на этот раз один, и впервые посетит Голландию и Бельгию, а также в первый раз побывает в Париже и в Мюнхене.
Шел 1914 год. Наукой князь по-прежнему не интересовался, а вот государственная и общественная служба вызывала у него несомненный интерес. Он баллотировался на должность калужского губернского предводителя дворянства, однако, когда началась Первая мировая война, сразу же решил отправиться на фронт, но по состоянию здоровья не подлежал армейскому призыву. Князь приложил все свои усилия, чтобы быть полезным Отечеству в тяжелую его годину и посвятил себя работе по санитарно-хозяйственному обеспечению армии, находясь на ответственных должностях Всероссийского земского союза. Сергей Евгеньевич бывал в прифронтовых зонах, снабжал раненых всем необходимым, доставлял их в госпитали, перевозил почту, обеспечивал безопасность путей сообщения. «Наш санитарный поезд был “именной”: он носил имя принца Ольденбургского, что само по себе ставило нас в особое положение. Принц А.П.Ольденбургский был тогда Верховным начальником санитарной и эвакуационной части и пользовался огромными правами. <…>
Работа моя на санитарном поезде все более и более становилась рутиной и поэтому менее интенсивной и интересной.
Я принял в свое время предложение Обще-дворянской организации (ОДО) работать на санитарном поезде потому, что это было первое предложение работать на армию, мною полученное, а я стремился найти такую работу поскорее. Теперь я получил гораздо более заманчивое для меня предложение от Всероссийского земского союза (ВЗС) работать по формированию одного из больших “передовых санитарных отрядов” этого Союза и отправиться с ним на фронт. Для начала, как и в ОДО, я должен был быть “помощником уполномоченного” (начальника отряда), а потом сделаться самому уполномоченным и начальником отряда.
<…>
“Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам” — таково было его полное название — с самого начала кампании перерос узкие рамки “краснокрестной” организации, каковой он, по своему названию и по желанию правительства, должен был являться. “Помощь больным и раненым воинам” при этом отнюдь не отпала, а, напротив, очень широко развивалась, но, кроме того, Союз начал обслуживать самые разнообразные и все увеличивающиеся нужды армии.
<…>
Летом 1916 года, в течение нескольких месяцев, я, оставаясь в звании товарища председателя фронтового комитета, был назначен комитетом, кроме того — уполномоченным ВЗС при 5-й армии.
<…>
За время войны я не был непосредственно подчинен военным (хотя комитет ВЗС был подчинен главному начальнику снабжения), но работать с ними мне приходилось довольно много, у меня никогда не было столкновений с военными в этой работе, и я тоже сохраняю о ней самое хорошее воспоминание.
Русская военная среда была очень симпатична и имела большие достоинства. Не случайно, что именно офицерство спасло русскую честь во время революции.
<…>
Армия — кость от кости и плоть от плоти народа. Между тем в России за последний период начала образовываться опасная трещина между армией и наиболее культурной частью народа. Наша интеллигенция — даже не интернациональная и антинациональная ее часть — считала армию чем-то чуждым».
До Февральской революции Трубецкой служил во Всероссийском земском союзе. Февральскую революцию воспринял как «припадок политического слабоумия и старческого безволия». С октября 1917 года он занимался научной и преподавательской деятельностью, работал в Московском университете. Начиная с 1919 года активно включился в работу по информационному обеспечению Белого движения и подготовке вооруженного восстания в Москве, став одним из руководителей Всероссийского национального центра и Тактического центра (наряду со Н.Н.Щепкиным, С.М.Леонтьевым, С.П.Мельгуновым).
Провал контрреволюционного подполья привел к аресту Трубецкого в январе 1920 года. Сначала была Лубянская внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК и одиночная камера. Находясь на Лубянке, он получил известие об аресте сестры Софии, пробывшей в тюрьме несколько недель, и о смерти отца. Через некоторое время Трубецкого перевели в общую камеру и разрешили получать и читать книги. Затем последовал перевод в Бутырскую тюрьму. Сергей Евгеньевич был человеком невероятной стойкости и выдержки. Его удивительная способность сохранять самообладание в обстоятельствах всеобъемлющей ненависти позволяла пережить обыски и допросы и не раскрыть своих соратников, а также избежать нечаянного предательства и не причинить вреда своей семье и друзьям.
Верховный трибунал РСФСР приговорил Трубецкого к высшей мере наказания — расстрелу, который впоследствии был заменен 10 годами строжайшей изоляции. И снова Бутырская тюрьма, затем перевод в Таганскую тюрьму, где Сергей Евгеньевич был назначен старшим воспитателем малолетних преступников. Ему было разрешено участие в церковных службах, проводившихся митрополитом Казанским и Самарским Кириллом (Смирновым). И в конце концов — подписание прошения об отъезде за границу вместе с матерью и сестрой. На пароходе «Обербургомистр Хакен», который отплыл из Петрограда 29 сентября 1922 года, Трубецкие отправились в Германию, простившись с Россией навсегда.
В эмиграции Сергей Евгеньевич жил в Кламаре, недалеко от Парижа, и продолжал бороться против большевистской власти. Став политическим советником генерала А.П.Кутепова и сотрудником Русского общевоинского союза (РОВСа), он составлял Бюллетени РОВСа о положении в России. После похищения генерала Кутепова в 1930 году Трубецкой стал секретарем Комитета по сбору средств на ведение дела по его розыску.
Выступал князь и с лекциями о политическом положении в Советской России в Офицерской школе усовершенствования военных знаний (1931) и перед членами Русского студенческого христианского движения (РСХД). Участвовал он в деятельности общества «Икона», Братства Святой Софии, кружка «К познанию России» (1933–1936), примыкал к движению евразийцев, входил в Российское центральное объединение, возникшее после Зарубежного съезда в 1926 году (1938–1937). Во время Второй мировой войны часть его рукописного архива погибла при бомбежке Парижа.
В послевоенные годы князь занимался переводами и публицистикой. С 1947 года он член комитета (товарищ председателя) Общества помощи русской эмиграции.
Скончался Сергей Евгеньевич Трубецкой 24 октября 1949 года в Кламаре. Похоронен на местном кладбище.
«Россия — наша Родина и наше Отечество — страна, где мы родились, страна, созданная нашими предками! Всем этим мы от рождения дышали, как воздухом, — воздухом, которого даже не замечаешь, но без которого жить невозможно — писал в своих воспоминаниях «Минувшее» Трубецкой. — Слава Богу, наши дети не лишены главной основы воспитания — основы религиозной, но вторая основа воспитания — патриотическая — для молодого поколения в корне искажена. Россия для наших детей — не ощущаемая всем существом, близкая сердцу реальность, а лишь отвлеченное понятие! Для детского сознания этого безусловно мало. Оно не может жить только “заданным”, ему нужно “данное”. Не “искание” Отчизны ему нужно, ему нужна сама эта Отчизна в ее несомненной реальности. Чем глубже чувствуем мы, родители, то счастье, которого мы не замечали, пока им обладали, — счастье иметь Россию, тем острее ощущаем мы тот ужас, что этой живой, реальной России у наших детей нет!
<…>
Люди, знающее историю своих предков, к какому бы сословию они ни принадлежали, конечно, не могут претендовать на монополию любви к Отечеству, но мне кажется бесспорным, что в их сознании имеются нити, связывающие их с родной землей и ее прошлым, которых не может быть у других, у какого-нибудь “Ивана Непомнящего”. Любовь к Родине сплетается в нашем представлении с картинами дорогих нам родных мест; любовь к Отечеству связывается с памятью о наших отцах и дедах.
В своих воспоминаниях я говорю только о ближайших моих предках, но если я смогу передать своим детям хотя бы самую незначительную частицу той любви, которая неразрывно связывает меня с моими родителями и дедами, то тем самым они крепче укоренятся и в любви к Отечеству, в любви к той России, которая является нашей общей Матерью».
См. публикации С.Е.Трубецкого в каталоге библиотеки ДРЗ.
Источники:
1. Трубецкой С.Е. Минувшее / предисл. Н.А.Руднева. М. : ДЭМ, 1991.
В.Р.Зубова